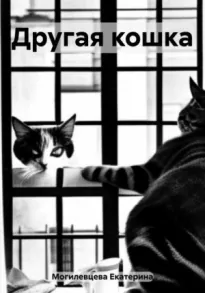Музей заброшенных секретов
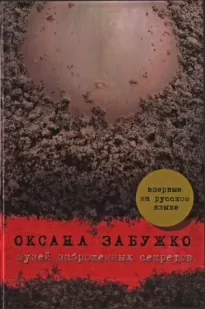
- Автор: Оксана Забужко
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2013
Читать книгу "Музей заброшенных секретов"
В одном он прав: я действительно не могу себе представить, как он жил. Как таскался годами, непрошеный, в гости по чужим домам, по еще не сметенным тогда новыми застройками старокиевским деревянным флигелькам и чердакам андеграундных мастерских, где ловил свою толику заемного тепла — хлебал налитый хозяйкой борщ, пил коньяк — дешевый, армянский, другого тогда не было, — ругал советскую власть, смотрел работы хозяина и изрекал над ними свои ненаписанные рецензии, — небось и вполне вдохновенно изрекал, сыпал цитатами, оттачивал стиль, — и все время при этом потел: источал из всех пор мутную влагу, как недодавленный творог, под гнетом своего тайного поручения… А потом брел домой — и переделывал все услышанное в «стори» для своего капитана. Не представляю я ни такой жизни, ни того, как можно было годами ее выдерживать.
Не напишет он ничего про этот «малоизвестный пласт нашей культуры». Никогда не напишет, пусть сколь угодно бодрится перед Адькой. Я могла бы сейчас сказать ему это прямо в глаза, снять с него грех, чтоб он больше не мучился, чтоб раз и навсегда перестал потеть под своим неснятым грузом: не напишет потому, что однажды он всех тех людей уже описал — в доносах. Сделал из этого «стори» — такую, как от него требовали. И эта «стори» осталась с ним, замкнула его память. Потому что со «стори» всегда так бывает, знаю по собственному опыту — людей, живых или мертвых, помнишь потом не такими, какими их знал, а такими, как про них рассказал. Все равно кому — телезрителям с экрана или кэгэбэшнику в кабинете за закрытыми дверьми: другой «стори», чтоб зачеркнула первую, новым текстом поверх старого, из того же материала уже не получится — материал «сгорел». Сгорел, весь вышел, переплавилсяя, превратился в шлак, оставив после себя только горький вкус обиды, вечное ощущение обделенности, протравленное скорбью очертание рта. Его «стори» у него когда-то отняли, забрали. С его же согласия, его же руками, никто теперь не виноват. Может, если бы он не согласился, то и в самом бы деле погиб — гибли-то как раз те, кто не соглашался… А те, что остались жить, теперь ничего не могут нам рассказать, потому что однажды уже рассказали. И, увы, не нам.
Теперь им бы рассказать нам другую историю — историю отнятых «стори». Историю своего поражения, но делать это никто не хочет. Влада тоже наверняка никогда не слышала от матери о том эпизоде с Лысым — да и помнит ли о нем сама Н. У.?.. Люди часто забывают зло, которое причинили другим, но навсегда сохраняют чувство неприязни к тем, кому его причинили, — причины подыскиваются и подставляются в пазл уже потом, задним числом. Влада могла слышать дома имя Лысого, произносящееся с глумливой ноткой в голосе, со снисходительным смешком, как обычно говорят про амбициозных неудачников, и таким его и считать. И почему-то мне из-за этого обидно — так, словно ее обманули, Владуську. Будто все ее обманули, и обманывали всю жизнь, сызмальства, — и все вместе, общими усилиями, загнали в кювет.
Я устала. Боже мой, как же я устала за сегодняшний день — неужели только нынче утром я собиралась на встречу с Вадимом, повторяла мысленно свою заготовленную прокурорскую речь про девчоночье шоу, специально надевала пиджак и гольф — те самые, в которых была у него на Тарасовской в день Владиной смерти, с расчетом на то, что у Вадима сработает на них павловский рефлекс, включатся подсознательные механизмы вины и памяти, идиотка, — будто мужчины вообще замечают, во что одета женщина, если только не намерены это с нее снять… Брр. Многовато мне что-то на один день — чувство такое, словно сегодняшнее утро было примерно неделю назад. И хмель уже прошел, выветрился напрочь, и мне холодно, такой знакомой, мерзляковатой дрожью пробирает за плечи, — может, это начинается простуда, гриппозный сезон, а тут еще сквозняк от дверей… И не нужно на меня, пожалуйста, кричать — я и так устала сверх всякой меры и не в состоянии больше реагировать ни на какие раздражители, пусть бы уж взял нож и разрезал меня пополам, как циркачку в ящике, только вряд ли я после этого опять сложусь воедино — Адя, сделай что-нибудь, ну чего он так кричит?..
А покраснел-то как, батюшки, — всею лысиной, словно бутыль с вишневой наливкой разлилась у него под кожей, не приведи боже, его сейчас здесь еще кондратий хватит, как Адька любит говорить, по-нашему это будет инсульт… В мое сознание прорываются только отдельные фразы («Кто здесь пострадавший? Что, может, из-за меня кто-то пострадал? Нет, из-за меня никто не пострадал, ищите сколько хотите, не найдете такого!») — в нечто целостное его монолог у меня уже не связывается, дробится, к тому же он кричит, а крик я и обычно-то воспринимаю плохо, — кричит уже не баритоном, а фальцетом, с истерическими бабскими модуляциями, и тоже как-то фальшиво, словно заранее заучил, что именно так нужно кричать от возмущения, когда тебя подозревают в сотрудничестве с КГБ, а может, за годы двойной жизни он вообще разучился говорить незаученно, просто забыл, как это делается — говорить что думаешь, не держа в голове заранее заготовленного текста?.. («Это меня выбросили на улицу, как собаку, и виновата в этом ваша Нинель! Именно она, и никто другой! И вы не сможете это опровергнуть!») Адька говорит ему что-то успокаивающее, воркует, как и весь вечер ворковал, — теперь бы надо вступить и мне, примирительно шаркнуть ножкой, может даже попросить прощения, сказать, что ничего такого у меня и в мыслях не было, и вообще, я хочу домой, — всё, хватит уже, хватит всех этих воспоминаний, расцарапывания язв, вечного украинского самоедства, — Адька хлопает ладонями по столу, словно загоняет назад в столешницу всех вызванных мною джиннов, — всё, пора на воздух, здесь душно, плохая вентиляция и носками воняет, — он брезгливый, Адька, только это никакие не носки, отстраненно, словно чужой головой, думаю я, — это смрад разлагающихся душ, я сегодня весь день их к себе притягиваю, наматываю их на себя, как на катушку, — сначала Вадима, теперь вот этого, и если это и называется моим журналистским расследованием, которое я сама себе поручила, то в гробу я видела такие расследования… И тут в речи Лысого прорезывается уже не фальшивый, а несомненно искренний звук: поспешно, захлебываясь, последним клокочущим аргументом из закрученного крана — победительный выкрик застарелой ненависти:
— Но Бог — есть, есть! По трупам шла, трупы и получила, — а что, думала, весь век по ее будет? Думала, весь век, как сыр в масле — то за мужем, а как мужа в гроб загнала, так дочку в великие художники выпихнуть?.. Гениальная Владочка, куд-да там, — настругала своих лубочных коллажиков, как капусты, а Европе что, там давно пустыня, британцы вон уже и премию Тернера за какое только ге не дают, а наши и уши развесили — ах, скажи ты, всемирно известная художница, на гоночной машине ездит! Вот и доездилась — пусть теперь матушка получает на старость то, что заработала!..
Следующий звук — падение стула. Это из-под меня, — а я, вскочив на ноги, возвышаюсь над загаженным столом, как Ленин над трибуной в старом советском фильме, и выкрикиваю, давясь, в стёкла бериевских очков что-то маловразумительное и на удивление жалкое, что-то начинающееся с «да как вы смеете» или типа того, от чего самой хочется немедленно провалиться под землю, — и когда в поднявшейся суматохе, в круговерти белых официантских рубашек и повернувшихся в мою сторону множественными пятнами чужих лиц выныривает во весь свой монументальный рост Адька, взмахивая руками, как дирижер над ямой оркестрантов, что перепились и режут какофонию, я, уступив ему свою трибуну, самым позорным образом спасаюсь бегством — споткнувшись, больно ударившись по дороге бедром о какой-то угол стола или стула, невидяще рванув с вешалки полушубок, — прочь, в дверь с отчаянным визгом ее петель, в едкую, размокшую масляную темень с плавающими в ней фонарями, по ступенькам, шумно дыша и поскальзываясь, под топот собственных сапожек, — и только на тротуаре, остановившись, замечаю в руке судорожно стиснутую салфетку: это когда же я ее схватила и зачем, интересно бы узнать, — собиралась запустить ею в лицо Лысому, что ли?..
Ночь, сугробы, опушенные изморосью фонари, тучи над Прорезной, что несутся быстро-быстро, разматываясь свитками дыма поверх свинцовой лунной подсветки… В детстве папа с мамой катали меня вечером на саночках — впрягались и бежали по длинной зимней улице, и как-то на повороте я из саночек выпала — и осталась лежать в сугробе, неподвижным закутанным свертком. За ту минуту или две, пока родители спохватились, вся вселенная обрушилась на меня одну — как на астронавта, что вышел в открытый космос. Помню небо вверху — усыпанную звездами черноту — и неимоверную, вселенскую тишину, какой никогда больше потом не слышала. Когда родители вернулись, с шумом и смехом, я уже знала, что мир на самом деле другой, чем они стараются меня убедить. Что человек в нем одинок. И что плакать — а они очень удивлялись, что я не плакала, — плакать под этим небом не для кого.
Не знаю, сколько времени проходит теперь — тоже минута или две, — пока я не слышу за спиной торопливое шуршание снега под знакомыми шагами — шух-шух, густой пар дыхания, родной запах прокуренного шерстяного пальто, автершейва, тепла, кожи — дома. Звенят ключи:
— Маленькая ты моя, ну что ты, а ну давай быстро в машину, а то еще простудишься…
И только теперь — развернувшись к нему, толкнувшись головой в расхристанную грудь, в родной запах, прогребаясь руками сквозь мягкую ткань шарфа, через отвороты кашемирового пальто, утупливаясь, зарываясь в него всего, как в землю от артобстрела, я наконец даю волю всем слезам разом, будто накопившимся за двадцать лет — от того самого дня, когда плакала на груди у Сергея, у первого мужчины, перед которым раскрылась, — одним взрывом, словно из меня со страшным, рявкающим звуком выбило пробку, и рыдания, что весь день подступали к горлу, как лай, вырвались наружу. Как собачий лай.
Мама, мамочка. Адя, Адюша. Не отпускай меня.
— Ты уже спишь?
— Умм…
— Ты со мной каким-то другим стал, знаешь?
— Ммм?..
— И когда входишь… Внутри… Как-то по-другому… Я больше не жду развязки, понимаешь? Просто ты во мне, и всё. Как во сне. Или как дыхание.
— Это хорошо или плохо?
— Глупыш мой… Хорошо, хорошо… Спи.
— Иди сюда.
— Что, снова?
— Ага. Снова и всегда. Зачем ты вообще эту рубашку надела?
— Послушай. А ты в это веришь? В то, что он сказал про Владину маму?
— Что она на него стукнула? Да похоже — а то чего бы столько лет чужую тетку ненавидеть, как родную…
— Нет, не это, а то, как он сказал про Владиного отца — что она его убила? Ты веришь, что так бывает?
— У тебя ножки до сих пор холодные, ах ты утенок мой… Давай их сюда… В жизни всякое бывает.
— Ты когда-нибудь был с такой женщиной? Которая тебя убивает, и ты это чувствуешь — изо дня в день?
— Я уже забыл. Все забыл, что было раньше. Интервью не в тему.
— Ну ты даешь, а у кого же мне теперь о таком спрашивать?..
— Смешное ты, я тебя хочу. Все время. Представляешь?
— Нет, ты послушай… Я еще днем, когда от Вадима вышла, про Владу подумала то же самое. Ну что у нее не было с ним, с Вадимом, другого выхода. Знаешь, как в туннеле, где можно только вперед… Может, это вообще так — в смерти одного из супругов всегда виноват другой?.. Вот ведь и в старину к вдовам недаром относились с подозрением… И к вдовцам…