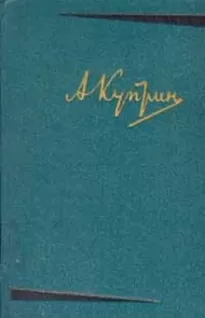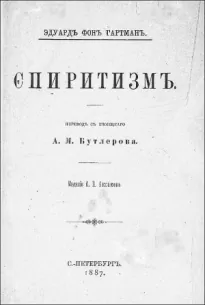Подросток
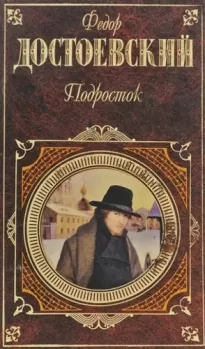
- Автор: Стефан Цвейг
- Жанр: Русская классическая проза
- Дата выхода: 2008
Читать книгу "Подросток"
Зодчество и страсть
Как мало любит тот, кто любит меру! Ла Боэси
«У тебя сильные страсти». Эти слова Настасьи Филипповны поражают прямо в сердце всех героев Достоевского и прежде всего самого Достоевского. Только страстно может этот могучий человек встречать явления жизни и потому особенно страстно — самую страстную свою любовь: искусство. Разумеется, творческий процесс, художественное напряжение для него не спокойная, свободно созидающая, холодно рассчитывающая работа построения. Достоевский пишет лихорадочно, так же, как лихорадочно думает, лихорадочно живет. В руке, проливающей на бумагу бегущие мелкими жемчужными нитями слова (у него быстрый, нервный почерк, как у всех горячих людей), пульс бьется учащенно, нервы судорожно вибрируют. Творчество для него — экстаз, мука, восторг и падение, сладострастие, ставшее болью, в сладострастье возведенная боль, вечная судорога, постоянно повторяющееся вулканическое извержение его мощной природы. «Со слезами» пишет двадцатидвухлетний юноша свое первое произведение «Бедные люди», и с тех пор каждая работа для него кризис, болезнь. «Я человек больной, нервный. Когда пишу что-нибудь, то даже думаю об этом и когда обедаю, и когда сплю, и когда с кем-нибудь разговариваю». И в самом деле, эпилепсия, его мистическая болезнь, со своим лихорадочным, воспламеняющимся ритмом, со своим мрачным, тусклым упадком, пронизывает тончайшие вибрации его произведений. Но всегда Достоевский творит всем существом, в истерической ярости. Самые мелкие, казалось бы, безразличные его произведения — например, журнальные статьи — расплавлены и вылиты в раскаленном горниле его страсти. Он никогда не творит какой-либо отдельной, свободно действующей частью своей творческой силы — как бы сгибом руки, игрушечной легкостью техники: всегда он вкладывает в событие все свое физическое возбуждение, до последнего нерва испытывая страдания своих героев и сострадание к ним. Все его сочинения словно возникли из бешеных грозовых ударов, порожденных неимоверным давлением атмосферы. Достоевский не может творить без внутреннего волнения, и о нем можно сказать словами Стендаля: «Lorsqu'il n'avait pas d'emotion, il etait sans esprit» — когда Достоевский не был страстен, он не был поэтом.
Но страстность в искусстве может быть стихией не только созидающей, но и разрушающей. Она создает лишь хаос сил, из которого ясный ум высекает вечные формы. Всякое искусство нуждается в волнении, как стимуле творчества, но, чтобы стать совершенным, оно нуждается и в рассудительно-обдуманном спокойствии размышления. Могучий ум Достоевского, врезающийся в действительность, как алмаз, знает мраморный, металлический холод, окружающий большое художественное произведение. Он любит, он обожает великое зодчество, он набрасывает великолепные масштабы, возвышенные пропорции мировой картины. Но страстное чувство всегда заливает фундамент. Вечный разлад между умом и сердцем обнаруживается и в процессе творчества, и здесь он называется противоречием архитектоники и страсти. Напрасно старается Достоевский, как художник, творить объективно, оставаться вовне, быть только повествователем и изобразителем, эпиком, докладчиком событий, аналитиком чувств. Его страсть страдания и сострадания непреодолимо втягивает его в создаваемый им мир. Нечто от изначального хаоса остается и в законченных произведениях Достоевского; никогда он не достигает гармонии («Не хочу гармонии», — кричит Иван Карамазов, постоянно выдающий самые сокровенные его мысли). И тут нет согласия, нет мира между формой и волей, и тут — о, вечная двойственность его существа, пронизывающая все формы от холодной скорлупы до пламенного ядра! — непрерывная борьба между внутренним и внешним. Вечный дуализм его существа обнаруживается в эпическом произведении борьбой между зодчеством и страстью.
Никогда Достоевский не достигает того, что технически называется «эпическим изложением», великого искусства укрощать движение событий, создавать из них спокойную картину, — искусства, которое наследственно передается от мастера к мастеру, через бесконечный ряд предков, от Гомера до Готфрида Келлера и Толстого. Страстно он строит свой мир, и только страстно, только в волнении можно им наслаждаться. Никогда не возникает в его произведениях нежное, убаюкивающее, ритмическое ощущение уюта, никогда не чувствуешь себя в безопасности, стоящим вне событий у надежного берега, созерцающим как спектакль прибой и смятение взволнованного моря. Всегда чувствуешь себя втянутым в него, вплетенным в трагедию. Как болезнь, переживаешь в крови кризисы его героев; проблемы, как воспаленные раны, жгут взволнованное сердце. Он погружает все наши чувства в раскаленную атмосферу, толкает нас на край душевной пропасти, где мы стоим изнемогая, испытывая головокружение, затаив дыхание. И только тогда наш пульс бьется в унисон с его пульсом, и мы становимся жертвой демонической страсти, — только тогда его творение становится всецело нашим достоянием, как мы становимся его достоянием. Достоевский хочет, чтобы те, кто воспринимают его эпос, испытывали такое же повышенное напряжение, как те, кого он избрал своими героями. Потребители библиотечных книг, спокойные фланеры чтения, гуляющие по панелям избитых проблем, должны отказаться от него, так же как и он от них. Только горящий, только страстно воспламененный человек, человек с раскаленными чувствами, может найти дорогу в его истинный мир.
Нельзя ни отрицать, ни скрыть, ни смягчить: отношение Достоевского к читателю не отличается дружественностью, любезностью; в нем есть разлад, чреватый самыми опасными, самыми жестокими, самыми сладострастными инстинктами. Это — словно страстное слияние мужчины с женщиной, а не, как у других поэтов, дружеское и доверчивое отношение. Диккенс или Готфрид Келлер, его современники, заманивают читателя в свой мир мягким, мелодическим голосом; в дружеской беседе они вводят его в события; они возбуждают лишь любопытство, фантазию, а не будоражат, как Достоевский, всю душу. Он же, страстный, хочет завладеть нами всецело, — не только нашим любопытством, нашим интересом; он требует всю нашу душу и даже наше тело. Сперва он насыщает электричеством внутреннюю атмосферу, различными ухищрениями повышает нашу возбудимость. Создается род гипноза — растворение воли в его страстной воле: как глухое бормотание заклинателя, бесконечное и бессмысленное, окутывают ум длинные разговоры, намеки и таинственность возбуждают наше участие. Но он не хочет, чтобы мы отдавались слишком быстро; искушенный сладострастник, он растягивает пытку ожидания. В нас медленно закипает беспокойство, а он, выдвигая новые фигуры, развертывая новые картины, оттягивает развитие действия. С дьявольской силой воли он сдерживает наступление разряда, и этим безмерно увеличивает внутреннее давление, насыщенность атмосферы. И вот, чреватое роком, сгущается над нами облако трагедии (как много времени проходит в «Преступлении и наказании» прежде, чем мы узнаём, что все эти непонятные переживания Раскольникова являются подготовкой к убийству, и в то же время нервы заранее предугадывают приближение страшных событий), на небе души сверкает зарница жуткого предчувствия. Но чувственное вожделение Достоевского опьяняется утонченной медлительностью: будто уколы иголки, осторожно вонзаются в кожу ощущений маленькие намеки. Создавая дьявольское торможение, Достоевский крупным событиям предпосылает страницы мистической и демонической тоски, пока он не вызовет в способном к возбуждению человеке (только для таких людей и предназначено все это) духовной лихорадки и физической муки. Блаженство напряжения, как и всякое переживание, этот фанатик контрастов доводит до боли, и лишь когда в перегретом котле груди закипает чувство, готовое взорвать стенки, — лишь тогда он ударяет по сердцу молотом, создавая возвышенное мгновение разряда, и, подобно разрешающей молнии, слетевшей с неба, его творчество поражает самую глубину нашего сердца. Только когда напряжение становится невыносимым, Достоевский раскрывает эпическую тайну и разрешает напряженное до предела чувство в мягко струящийся поток слез.
Так враждебно, так сладострастно окружает, осаждает Достоевский своего читателя утонченной страстностью. Не в открытой борьбе побеждает он, а как убийца, часами и часами подстерегающий свою жертву, вдруг острым мгновением пронзает сердце. Он так страстен в своем мятеже, что сомневаешься, можно ли назвать эпосом его произведения. Его техника — это техника взрыва: он не прокапывает, как чернорабочий, шаг за шагом, дорогу к своему произведению: изнутри, сгущенной до предела силой он взрывает мир — и насыщенную напряжением грудь. Его подготовительная работа проходит в подземелье, точно заговор, и, как молния, внезапно раскрывается она перед пораженным читателем. Никогда не знаешь, хотя и предчувствуешь, что идешь навстречу катастрофе; не знаешь, в котором из его героев кроется мина, с какой стороны, в какой час последует грозный разряд. От каждого действующего лица проведены шахты к центру событий, каждый заражен взрывчатым веществом страсти. Но кто подожжет фитиль (например, кто из всех отравленных одной и той же мыслью убивает Федора Карамазова) — это скрыто с необычайным искусством до последнего момента, ибо Достоевский, позволяя все предугадывать, не выдает своей тайны. Все время ощущаешь судьбу, подобно кроту, подкапывающемуся под плоскость жизни, ощущаешь, как вплотную к сердцу подводится мина, — и вот изнываешь в бесконечной напряженности, в ожидании краткого мгновения, словно молнией прорезающего душную атмосферу.
И для создания этих мгновений, для неимоверной концентрации напряжения, Достоевский в своем эпосе пользуется доселе небывалой мощью и ширью изложения. Лишь монументальное искусство может достигнуть такой интенсивности, такой концентрации — только искусство первозданного величия и мифической мощи. Здесь ширь — не многословие, а зодчество: как для вершины пирамиды необходим гигантский фундамент, так для вершинных точек в произведениях Достоевского нужны огромные размеры его романов. И действительно, подобно Волге или Днепру, великим рекам его родины, текут его романы. Всем им свойственно мощное течение; медленными волнами прибивают они к берегам несметные количества людей. Тысячи страниц, заливая берега художественного изображения, уносят немало полемических галек и политических камней. Иногда там, где ослабевает вдохновение, встречаются широкие, песчаные пространства. Вот, кажется, оно уже иссякает. В прерывистом течении извиваются события, теряясь в извилинах и в излучинах, поток застревает часами на мелях разговоров, пока вновь обретет глубину и страстную стремительность.
Но вот, по мере приближения к морю, беспредельности, все чаще встречаются пороги, и растянутый рассказ сжимается в водоворот; страницы словно летят, темп становится угрожающим; душа увлечена в бездонную пропасть чувств. Вот уже чувствуется близость глубины, вот уже грохочет водопад, вся широкая, тяжелая масса вдруг обращается в пенящуюся быстрину, и, как течение рассказа, словно магнетически привлеченное водопадом, пенясь, устремляется к катарсису, так и мы невольно быстрее несемся по страницам и с разбитыми чувствами внезапно падаем в пропасть событий.