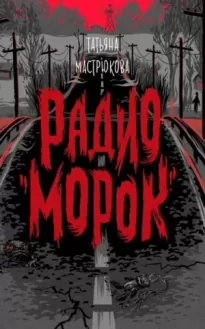Рязанцева Н.Б. Не говори маме
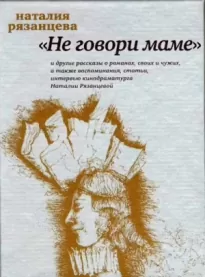
- Автор: Наталья Рязанцева
- Жанр: Публицистика / Классическая проза / Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2005
Читать книгу "Рязанцева Н.Б. Не говори маме"
Самозванка
Я получила странное письмо — от незнакомой женщины откуда-то из Сибири. Она спрашивала, та ли я самая ученица 318-й школы Наташа Рязанцева, которая в бог память дай каком, наверное, в пятьдесят третьем году напечатала в газете «Пионерская правда» стихи о Москве. Прилагалась пожелтевшая вырезка из «Пионерской правды». Это было давно, в самые тяжелые для меня дни, когда умер муж, и письмо это передали из Союза кинематографистов вместе с траурными телеграммами. Никогда я не была так далека от ученицы 318-й школы и долго не могла понять, что это я такое читаю. Оно вынырнуло из детства, минуя всю биографию: ни фильмы, ни режиссеры, ни тот сценарий, на который она наткнулась в журнале, не интересовали эту женщину — только стихи о Москве. Через тридцать с хвостиком лет, как бутылка из пучины морской…
Стихи были такие плохие, что стыдно вспомнить, я и тогда уже сокрушалась, что их напечатали, взяли в литературном кружке, и через год на тебе — публикация. Корявой «лесенкой», почти прозой в них выражалась несложная мысль, что когда мы живем в Москве, мы ее совсем не замечаем, а стоит уехать куда-нибудь далеко — «и если по радио в вашем вагоне поют „Дорогие мои москвичи“» (единственную строчку я помню), — то Москва расцветает всеми огнями, звездами, салютами и т. д. и т. д., детскую свою тоску по красавице столице пыталась я выразить. А ответить той женщине даже не пыталась, возникал невежливый вопрос — неужели она лучше ничего не читала, чем мои детские вирши? Про ту же Москву, про ту же ностальгию? Она писала, что по рождению москвичка, но в юности пришлось уехать, а потом мечтала вернуться, но не вышло, десятки лет она мечтала о Москве, а теперь уже и не мечтает.
Видимо, мое сочинение попалось ей в минуту острой тоски, она над ним даже плакала — где-то далеко от Москвы… У меня тоже было много таких минут, когда — «Я по свету немало хаживал…», и глаза мокнут. «Далеко от Москвы» — такая толстая книга, что не удалось ее осилить, но от самого названия продирало холодом, угрозой утрат и всеми чувствами, в которых мы совпали с моей корреспонденткой. Она писала, что чем дольше живет, тем дальше, дальше от нее Москва, и тем ближе — чаще вспоминается…
Почему меня уже в детстве посетила эта тоска?
Отбросив литературный снобизм, я должна гордиться таким рекордным по времени «читательским откликом» и посвятить этой женщине свои воспоминания.
Бабушка читала: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спаленная пожаром, французу отдана?..» Дальше я не слышала, вопросы душили, в три года сразу три вопроса — полный «капут», значит, «ей еще рано». Почему французы? Нас же немцы хотят захватить! Это я еще спрошу — может, они тоже с нами воюют? Но почему «отдана?» Ведь мы Москву не отдали, не отдали и никогда врагу не отдадим! Пожар я уже себе представляла, но неужели вся Москва совсем сгорела? Все равно она не сдалась, я точно знаю, папа уже чинит железную дорогу под Дмитровом, и зачем мы только уехали из Москвы, в Ярославле тоже бомбежки… Слово «Москва-сква-сква-сква» повторялось чаще всех слов, и второе хорошее слово — «довойны». Вообразить себе «довойну» и Москву я не могла, но когда уж слишком взахлеб ревела, выскакивало оправдание: «Я подумала, что Москва вся сгорела…» И так посложно, осторожно уяснив пугающую строку, я уже могла выскочить в рубашке к гостям и, перекрикивая патефон, прочесть им в новогоднюю ночь: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром…» Встречали сорок второй год, однако же смеялись…
Брат мой родился в октябре сорок первого. Помню воздушную тревогу, мы бежим в подвал, маме удалось донести его спящим, и в полной темноте, в тесноте, в напряженной тишине наш младенец отчетливо изрек — «алигу-ква-ква-ква…» Подвал сотрясался от хохота, весь двор запомнил первые его в жизни слова. «Покажи, Юрик, как квакушка квакает? Ой, я прямо обсикалась! Ква, ква, ква!» И я подсказывала с гордостью — «Москва!» До лягушек ему было еще далеко, уверена — он сообщил спросонья единственное слово, застрявшее в ушах, — «Москва». Ярославское оканье искажало любимое слово «до войны», получалось тягуче и грустно, но я знала, что мы не здешние, мы скоро вернемся в свой потерянный рай.
Прошла целая эпоха — шесть лет! — с победными салютами, веселыми песнями — «Барон Фондершпик попал на русский штык, остался от барона только пшик» и особенно любимой, детской: «Вернись, попробуй, дорогой, дорогой, тебя я встречу кочергой, кочергой». Сквозь пришепетывание патефона слов было не разобрать, одна «кочерга». Кто тогда знал, что она английская? Наша русская, плясовая, народная! Прошла и тайная досада, что война уже кончилась, а нам не досталось повоевать, но ничего, мы тоже будем бороться, мы уже боремся — за мир во всем мире. Прошел и долгий, слившийся с победой праздник — день рождения Москвы, восьмисотлетие…
И вот я впервые в жизни оказалась далеко от Москвы — одна, без родителей.
В этом «лагере санаторного типа» дети были ростовские, тихорецкие, белореченские, дети Северо-Кавказской железной дороги, и только я одна — москвичка.
Девочки ходили за мной, куда бы я ни шла, и старались взять под ручку, хотя бы прикоснуться. Они подглядывали за мной, и когда я дежурила одна в палате, врывались из других, старших отрядов — взглянуть на меня. Всем хотелось заплести мне косы или накрутить мои ленты на спинку кровати. Они по очереди застилали мою постель и клали одежду под матрац, чтобы сама гладилась. Потому что я видела Сталина.
Я не хвасталась, а так, между делом, сообщила, что всегда хожу с папой на демонстрацию, и один раз мы его видели на мавзолее.
— Ты правда видела Сталина?
Они хотели, чтобы я подтвердила при всех, когда все уже легли, в торжественной тишине, как бы поклялась, что я его видела, и выбрали меня председателем совета отряда. Хотя я была самая младшая и не слишком бойкая, скорее робкая, и культ моей личности, моей «столичности», поначалу меня смущал. Как положено, я возразила что-то нетвердо, предложила соседку по койке Жанну, но все-все-все единогласно закричали, что у меня «авторитет», меня все слушаются.
В той дивной местности у моря, возле города Туапсе, в теплом месяце июне, когда детям вот-вот разрешат купаться, а пока только репетируют песни к костру, я оказалась единственной, кто видел лестницу-чудесницу и елки у Кремлевской стены и топтал вот этими самыми сандалиями священную брусчатку Красной площади. Я смотрела на свои сандалии, и они были уже не совсем мои, и я уже была не совсем я.
Как председателю мне особенно мешал младший брат, незаконно попавший в лагерь дошкольник. Он бежал от мужского коллектива, прибивался к девочкам и мешал нам плясать краковяк или убегал один в овраг, его вылавливали и в наказание ставили лицом к стенке, к свежевыкрашенной под мрамор, с жутким масляным запахом стене нашей веранды, и, когда меня послали его утешить, я только прошипела: «Так тебе и надо, тебя вообще исключат». Потому что «москвич должен показывать пример, а он тянет назад всю группу». Я старалась за двоих показывать пример, переписала в пионерской комнате все стихи и песни, какие помнила, в том лагере ни одной книги, даже песенника, не было. Получилась целая тетрадь, и никто не хотел учить, все хотели танцевать. Как я ненавидела эти репетиции, эту «польку-бабочку» и лезгинку, матросский танец «Яблочко» и гопак, — но старательней всех прыгала, и косточки на ногах были всегда до крови сбиты сандалиями. А когда долго, невыносимо долго поднимался утренний флаг, я держала руку в салюте, а она сама падала, я вспоминала про партизан, как им еще хуже приходилось, их пытали, и незаметно поддерживала правую руку левой, и было до обморока страшно, что все заметят, как я плохо «держу салют», и тогда все узнают мою страшную тайну.
Я была самозванкой. Я не была пионеркой, но сознаться в этом, когда на рукав нашили две красные полоски, уже было поздно. Девочки не так меня любили как прежде, любить председателя это значит «выслуживаться», и когда все, сговорившись, подняли голодный бунт, стучали ложками, мисками и требовали добавки, я не знала, что делать, я только тихо уговаривала: «У нас в Москве еще хуже кормят; и никто не кричит». Я оставляла все на тарелке, не помню голода вообще не помню, чем нас там кормили, я все время думала об одном — сказать или не сказать? А за спиной уже часто слышала: «Подумаешь, москвичка!»
Я решила признаться Жанне, серьезной девочке, на два года меня старше, самой умной, решила посоветоваться с ней, когда все заснут, а мы будем лежать и шептаться, как в первые дни нашей дружбы. Но она всегда засыпала, пока я готовилась про себя, с чего начать: «Знаешь, Жанна, я давно хотела тебе сказать… Когда принимали в пионеры некоторых из нашего класса, я проболела всю вторую четверть корью и ветрянкой, а когда пришла — их уже приняли, шесть человек, а потом еще троих наметили, кто достоин, и нас, которые болели, нам даже велели купить галстуки, а потом только „кормили завтраками“, у нас же в Музее Ленина принимают, там очередь со всей Москвы, и я не знаю теперь, сказать или не сказать: я вообще не имею права носить галстук». Я ловко подводила к последнему вопросу, чтобы Жанна ответила: «Тю-ю, никому не говори!» И сама бы поклялась — никому…
И вот в одну беспокойную ночь, когда волны грохотали рядом, начинался шторм, а в горах завывали шакалы, и вся палата говорила про утопленников и спорила, можно ли увидеть шакала, я почувствовала, что Жанна тяжко ворочается и, кажется, даже плачет. «Ты боишься, ты шакалов боишься?» — мы стали шептаться. «Я про отца все время думаю, — сказала Жанна. — Он работает ночным шофером а у нас в Ростове много бандитов, мы всегда за него ночью боимся».
Я тоже вспомнила, что мой отец работает ночью. Тогда все министерства (или это называлось еще НКПС?) работали ночью, пока Сталин не спит в Кремле. Я рассказала Жанне, что мы тоже всегда очень за него волновались, когда жили за городом, в Лосинке, а ночью же электрички не ходят. Поэтому нам к восьмисотлетию дали квартиру в Москве, и он идет домой пешком, это близко, от Красных ворот до Краснопрудной, там вокзалы и не страшно, я только боюсь там цыганок, я не совсем еще привыкла к Москве… Слово за слово — я всю жизнь рассказала, но не решилась признаться, что я не пионерка. Почему же я привезла с собой галстук? Вот в чем был главный вопрос. Я тайно сунула в чемоданчик новый шелковый галстук — вдруг в лагерь без галстука не примут? Стало быть, заранее замышляла подлог.
На другой день я услышала: «Тю-ю, какая она москвичка? Она из какой-то Лосинки, это не считается». Они не требовали меня к ответу, не спрашивали напрямик: «Почему ты наврала, что ты москвичка?» Я бы тогда ответила, что Лосинка — всего пять остановок от Москвы, мы всегда ездили смотреть иллюминацию и салют, и бабушка брала меня с собой на работу, мы ездили на метро до «Библиотеки имени Ленина» оттуда виден Кремль, а работа ее в красивом как дворец, доме в мавританском стиле, его построил еще Савва Морозов, а теперь там «Британский союзник». Я сама цепенела от подробностей — вдруг они спросят, что такое «мавританский стиль» и кто такой Савва Морозов? Но они ничего не спрашивали, они все подружились между собой и потеряли ко мне интерес. «Я уже целый учебный год в Москве, если не верите — можете меня перевыбрать!» — я всегда была наготове, а они не спрашивали, и «авторитет» мой переместился к хорошенькой Томочке, волоокой «нимфетке» — я вспомню ее и всю их загорелую неприступную компанию, читая Набокова. Они загорали, а я облезала. Они шушукались, а меня знобило от мыслей, поднималась температура, меня не брали на море и однажды сослали в «изолятор».